Абитуриент-2025: плачь и плати
Информационное пространство взрывается новостями о серьезном скачке стоимости обучения на платных направлениях в ведущих вузах страны. А на бюджетное место почти нереально попасть, если ты — не олимпиадник и не льготник. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась в вопросе и пришла к выводу, что с помощью имущественного ценза закрываются двери социального лифта для абитуриентов из регионов. Заодно шанс на серьезный конкурс получают провинциальные вузы с вечным недобором и невысоким престижем.

Имущественный ценз
Стереотип о том, что «платники» — тупоумные Митрофанушки, чьи родители покупают диплом ради «корочек», остался в нулевых, когда бурно расцвели коммерческие вузы. Сегодня на платном чаще учатся в государственном учреждении. И не потому, что интеллекта не хватило поступить на бюджет. А потому в нынешних реалиях для обычного абитуриента, даже хорошо учившегося в школе, доступ к бесплатной «вышке» почти закрыт. Бюджетных мест все меньше, чтобы занять такое, нужно входить в одну из двух групп. Первые: шибко умные, сдавшие все ЕГЭ на 100 баллов, прошедшие горнило олимпиад и получившие дополнительные преференции за сдачу ГТО, волонтерство и школьные медали — недостаточно просто высшего балла за все экзамены, нужно добирать «допами». Вторые: льготники, количество категорий абитуриентов, зачисляемых в обход основного конкурса, растет год от года.
Все остальные могут проследовать в кассу. Но, похоже, теперь эта опция останется доступной разве что для детей региональной элиты. Родители со столичной зарплатой еще могут потянуть освежающие ценники, а для абитуриентов «из глубинки» преодоление имущественного ценза становится неподъемной задачей.
Кое-где даже выше. Вот некоторые цифры, показывающие рост стоимости обучения для вновь поступивших.
Псков в этом информационном потоке тоже отметился, увы, с негативной стороны. Повышение затрагивает и уже обучающихся студентов. Но для этой когорты рост цены ограничен законом, стоимость обучения на каждом следующем курсе не может повыситься сильнее инфляции. В наступающем учебном году это 4,6%. На днях заместитель министра образования и науки Андрей Омельчук прямо назвал наш регион в числе тех немногих, кто превысил допустимую планку.
К парадоксам регионального высшего образования мы еще вернемся. А пока хотелось бы обратить внимание на родителей абитуриентов, которые хватаются то за кошелек, судорожно пересчитывая содержимое, то за сердце. И задаются резонным вопросом: а что происходит?

Перестройка
Скачок стоимости обучения — не столько следствие инфляции, сколько одна из составляющих идущей перестройки системы высшего образования.
Смотрим на факты. В прошедшем учебном году состоялась апробация новых правил сдачи ОГЭ в 9 классе. В трех регионах разрешили сдавать только два основных предмета тем выпускникам, кто не собирается идти в 10 класс. Вероятно, после апробации новые правила раскатают на всю страну. То есть образовательную траекторию смягчают для желающих получать рабочие специальности, мягко выдавливая подростков в ссузы. В начале года мы подробно останавливались на этой инициативе.
Добавим сюда высказанное вслух председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко пожелание об ограничении приема в столичные вузы региональных абитуриентов.
По действующему законодательству невозможно ограничить абитуриентов в поступлении в любой вуз страны. Другое дело, если сами даже замахиваться не станут по финансовым соображениям. Фактически, подъем ценника на платных местах становится ограничителем. Одно из двух: или ты семи пядей во лбу, или у родителей толстый кошелек. Для прочих двери социального лифта закрываются.
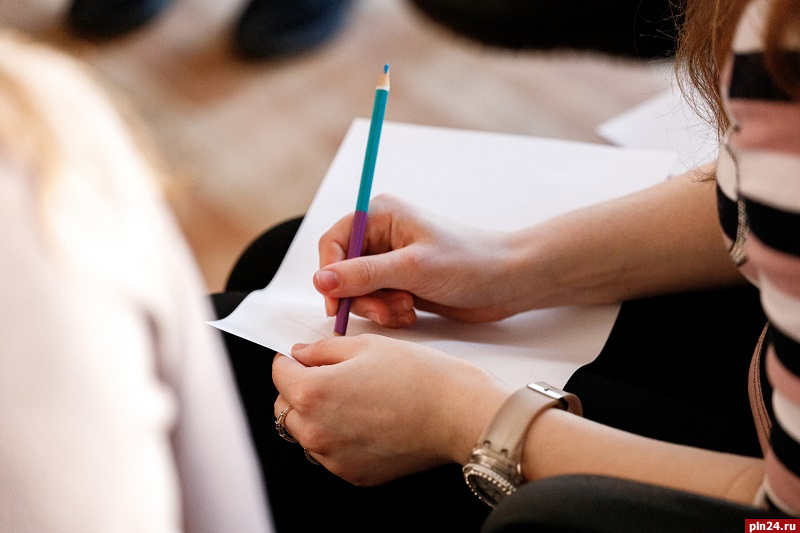
Попутно система решает еще одну задачу. Она заключается в стыковке остатков советской системы высшего образования с современными экономическими реалиями. Раньше государство бесплатно готовило специалистов, которые потом шли работать на государственные (других просто не было) предприятия. То есть бюджетные деньги тратились на выращивание кадров, в дальнейшем работающих на пополнение бюджета. Сегодня бюджетные места сохраняются, но выпустившиеся после обучения за госсчет вольны выбирать работодателя, в том числе, в коммерческом секторе. Поэтому в последние годы новое дыхание получила система целевого обучения. Направление от предприятия все чаще можно взять прямо в приемной комиссии. Будущий работодатель и оплатит учебу. Конечно, затраты придется отработать. Но и рабочее место тоже гарантировано. Если для педагогов или врачей оно будет, скорее всего, в деревне Малые Залысины с проживанием в бывшем бараке с туалетом на улице, то не все столь же печально для, например, специалистов в атомной энергетике или пищевых биотехнологиях. Таким образом, государство создает условия (обеспечивает работу вуза), но за свои будущие кадры коммерсанты платят сами.
А у нас во дворе
Однако все сказанное не относится к ситуации в регионах. Не только в Псковской области, но и в других субъектах несколько лет назад состоялось объединение ключевых вузов под общей крышей. У нас, напомним, ПсковГУ собрал педуниверситет и политехнический институт (некогда являвшийся филиалом питерского Политеха, но к моменту слияния получивший независимый статус), к ним добавили строительный и индустриальный колледжи в Пскове и «строяк» в Великих Луках. Подобные гиганты получают статус опорных вузов, то есть, по замыслу, должны являться опорой для экономики региона, готовить специалистов по направлениям, востребованным на конкретной территории.
Пока что ситуация дикая. От работодателей несется стон о дефиците кадров, а в ПВЗ маркетплейса или на кассе супермаркета зачастую можно встретить работника с высшим образованием. Все профессии важны, спору нет, но не для каждой так уж нужно высшее образование. Особенно полученное за бюджетный счет. Высшее образование на региональном уровне остается массовым, но малоприменимым к реальной ситуации в экономике. Не секрет, что во вторую волну зачисления региональные вузы берут практически всех, кто преодолел минимальный порог баллов на ЕГЭ, необходимый для получения аттестатов. Потому что после первой волны наиболее перспективные абитуриенты уносят оригиналы документов в вузы крупных городов, и региональным игрокам рынка образования остается довольствоваться тем, что есть, зачислять едва ли не любого с улицы, чтобы сохранить запланированный уровень подушевого финансирования.

Вот что получается. На федеральном уровне озабочены как в принципе чрезмерным числом специалистов с высшим образованием при недостатке рабочих рук в реальном секторе, так и слишком сильным потоком желающих закрепиться в экономически развитых столицах через получение там образования. С повышением престижа рабочих профессий что-то не очень складывается (вероятно, потому что элита не спешит учить своих отпрысков на токарей и пекарей, и народ делает логичный вывод, что счастья следует поискать где-то в другом месте), поэтому детей стимулируют уходить после девятого. Не слишком выходит и поднять статус региональных вузов, пусть бы даже и обладающих почетным званием «опорных». Авторитета не добавляют скандальные истории, вроде состоявшегося этой весной в Пскове ареста ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, ставшей фигуранткой уголовного дела по коррупционным статьям.
В регионах добровольный поток желающих на получение диплома генерируется не слишком бурно, вероятно, поэтому и тут пошли по пути ограничения других возможностей. Если ты не олимпиадник и не льготник, если кошелек родителей недостаточно толст — двери университета в родном регионе всегда открыты, вытри слезы.
Только вот, если не будут выработаны другие меры привязки населения «к земле», то самые шустрые все равно будут пополнять население мегаполисов, пусть и на несколько лет позже, уже после получения дипломов. Если.
Юлия Магера

